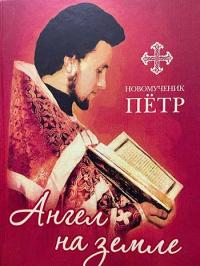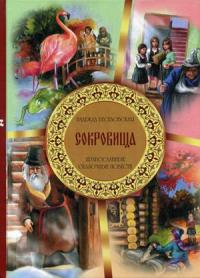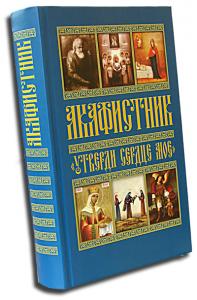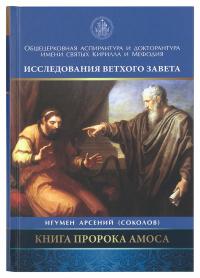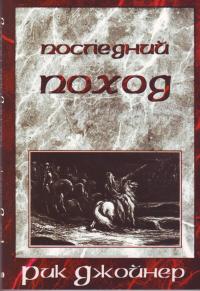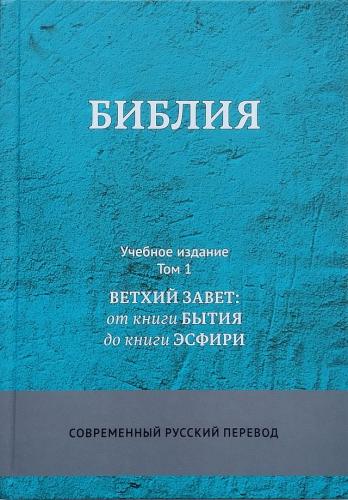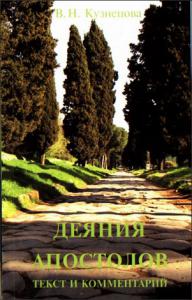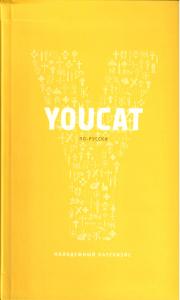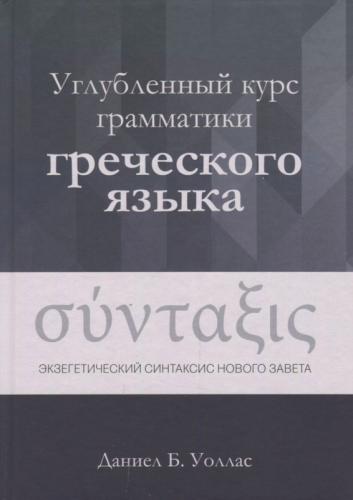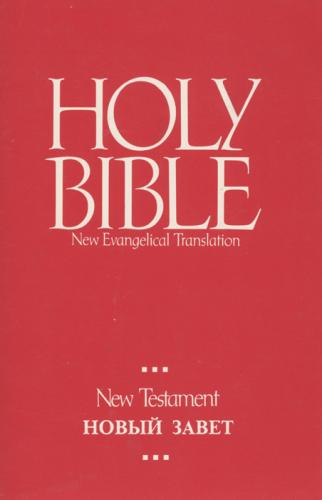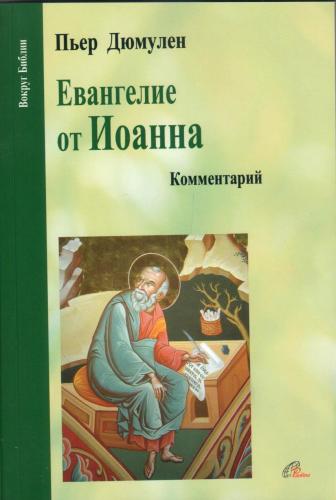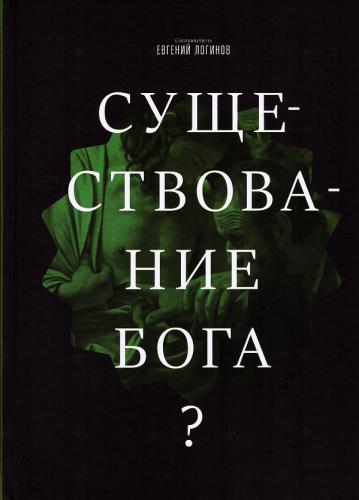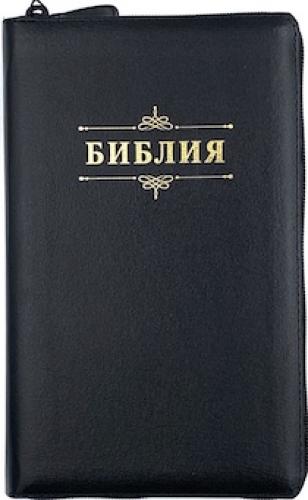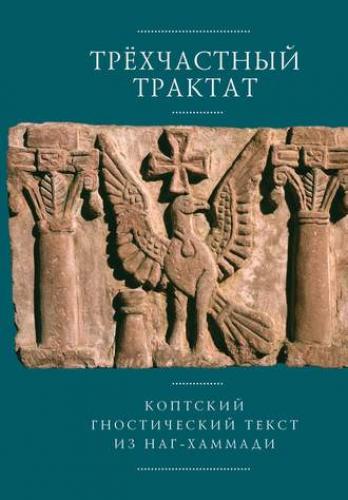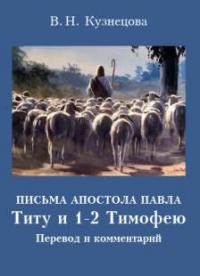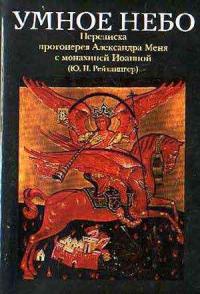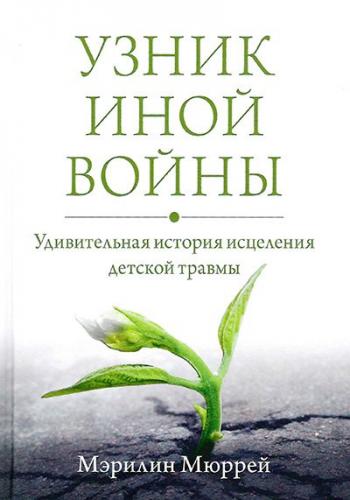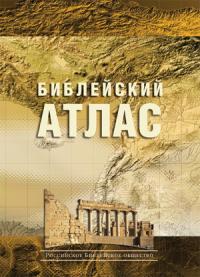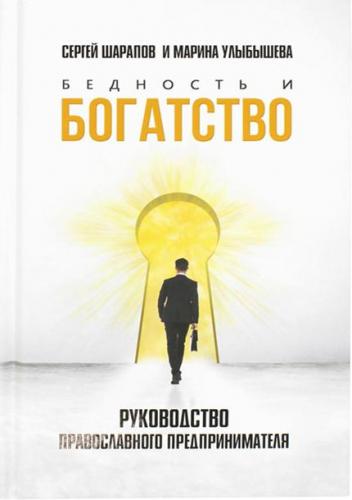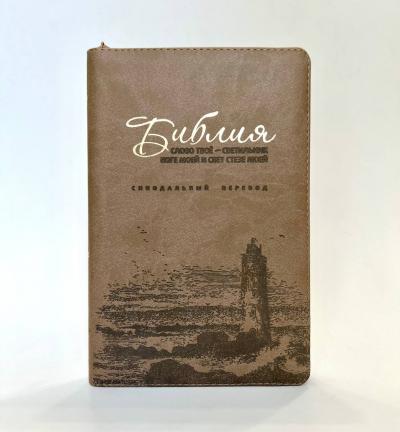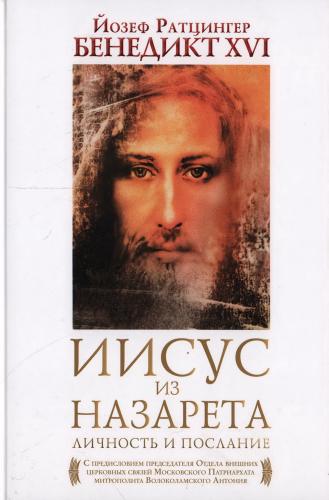Санкт-Петербург, Малая Конюшенная, д. 9, 8 800 201-43-49 (бесплатно по России) +7 812 571-20-75 +7 964 335-07-04
Каталог Обн.: 12.03
- Библии. Библейские словари, справочники
- Библии канонические
- Библии с неканоническими книгами
- Современные русские переводы Библии
- Библии на иностранных языках
- Библии в иллюстрациях
- Новые Заветы
- Новые Заветы на иностранных языках
- Библейские карты
- Библейские комментарии
- Справочники, словари, симфонии
- Православная литература
- Азы православия
- Акафисты и каноны
- Альбомы, подарочные издания
- Ангелология
- Апологетика
- Аскетика: о молитве и духовной жизни
- Библеистика
- Богословие и патристика
- Богослужебная литература
- Воспоминания, жизнеописания, дневники, письма
- Государство и церковь, армия и церковь
- Детская литература
- Жития святых и подвижников благочестия
- Иконопись, иконография, искусство, культура
- История России
- История церкви
- Календари, ежедневники
- Медицина и психология, зависимости
- Межконфессиональный диалог
- Миссиология
- Молитвословы, псалтири
- Монастыри, храмы, соборы: история, описание
- Назидательное чтение, назидательная литература
- Наука и богословие
- О Пресвятой Богородице
- О молитве Иисусовой
- Паломничество
- Православие и религии мира
- Православная педагогика
- Православная семья
- Православная трапеза. Сад и огород. Домоводство
- Продолжающиеся издания, конференции
- Проповеди. Поучения. Беседы. Труды
- Публицистика, филология, литературоведение
- Религиозная философия и социология. Русские философы-богословы
- Священное писание
- Сектоведение, лжепророчества, оккультизм, полемика
- Старообрядческая литература
- Старчество, монашество, подвиги святых
- Творения святых отцов
- Толкование и изучение Священного писания. Комментарии
- Художественная литература и поэзия
- Церковно-славянский язык и древние языки
- Церковное пение. Ноты
- Энциклопедии, справочники, словари
- Евангелическая литература
- Апологетика и творение мира
- Биографии
- Богословие,библеистика
- Вероучение, исследование, наставление
- Воспитание детей
- Детская литература
- Для женщин
- Для мужчин
- Для служителей церкви
- Духовная проза и художественная литература
- Душепопечительство и психология
- История церкви
- Исцеление, освобождение
- Лидерство, наставничество, финансы
- Миссия и евангелизация
- На разные темы
- О Боге и его свойствах
- О вере и благодати
- О церкви
- Песенники и нотные сборники
- Пост. Молитва. Ходатайство
- Поэзия
- Практическое христианство
- Проповеди
- Работа с зависимыми
- Религиозная философия,этика
- Свидетельства
- Семья, брак, взаимоотношения
- Учебные материалы
- Чтения на каждый день
- Католическая литература
- Апологетика
- Библеистика
- Богословие
- Богослужебная литература, молитвословы
- Детская литература
- Духовная жизнь
- История монашеских ордеров
- Каноническое право
- Катехизация
- Межконфессиональный диалог
- Назидательная литература
- Наука и богословие
- Патрология (патристика)
- Периодика
- Психология, педагогика, семья, воспитание
- Религиозная философия
- Святые и подвижники
- Труды, биографии, жизнеописания
- Художественная литература и поэзия, воспоминания
- Церковь: история, документы
- Энциклики Святейших Пап, обращения, постановления
- Энциклопедии, справочники