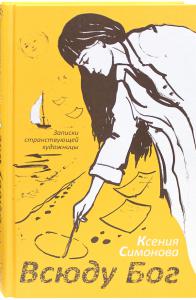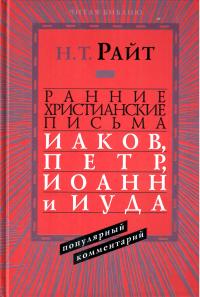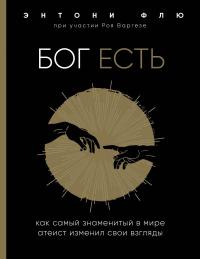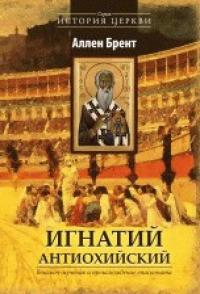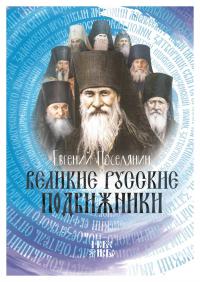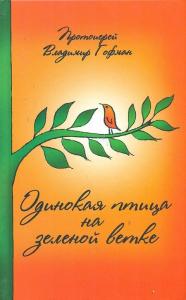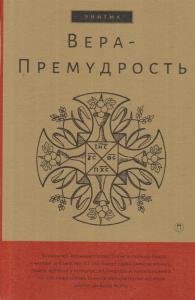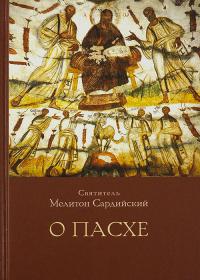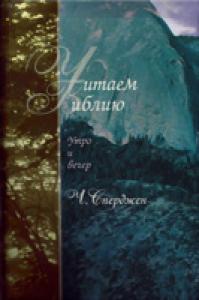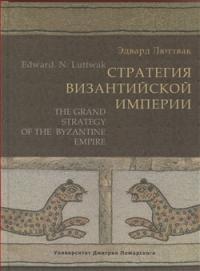Отзывы покупателей
Главная / Отзывы

Много призванных
Всем привет!
Увидел ост про то, что на Драйв запустил собственный магазин автозапчастей и решил потестить. К
тому же обещают, что здесь невозможно купить подделку.
Милла
Всем привет!
Увидел пост про то, что на Драйв запустил собственный магази автозапчастей и решил потестить. К тому же обещают, что здесь невозможно купить поделку.
Милла
…Ксения Симонова – замечательный человек. И душевно, и телесно. Начнём с того, что она – очень красивая, яркая женщина. И вместе с тем – очень талантливая. Красота же её души заключается в том, что она во всей полноте подтверждает тезис Тертуллиана о том, что всякая душа человеческая – по природе – христианка. Само слово «талант», как все помнят - пришло из евангельской притчи. Согласно её пониманию – талант – это то сокровище, которое должно быть приумножено, должно быть вложено так, чтобы принести к ногам Подателя Талантов – Источника всякой красоты, гармонии, Который Сам есть Любовь – «прирост». И этот прирост должен соответствовать Его Природе – только тогда человеческая задача творческого (да и не только творческого) человека будет выполнена. Ксения Симонова, чья душа тонка и красива, умеет красотой своей души, полученной от Создателя, делиться так, как никто другой. Её творчество передаёт от её души к душам зрителей всё самое чистое, светлое, доброе, что есть в ней – в этом её служение Богу (а она – очень верующий, православный человек) и людям.
Ксения – одна из самых известных в мире художниц особой техники – она создаёт, как она сама их называет – «фильмы» из песка – песчаные анимации. Её выступления, а выступает она по всему миру – от России, Европы и Америки, до Марокко, Бутана, Австралии, Таиланда – это настоящие артистические номера. Это не только «рисование». Это – находящиеся в гармонии – динамическая графика, пластика движений, «мимика» рук, тщательно подобранная музыка. И в основе всего этого - свет. Мягкий, тёплый свет, подобный свету заходящего солнца, так созвучного мудрым размышлениям на фоне заката. Ведь в песчаной графике – один из главных инструментов – это свет. В нём рисует художник, играя толщиной слоя песка, продумывая каждую линию, не имея права на ошибку на сцене. И это всё подчинено сценарию, тому, чтобы породить в душе зрителя ответный отклик, отзвук – доброту, любовь, сочувствие, сострадание, благодарность, очистительные слёзы. Очень часто ксеньины зрители – плачут…
И вот – перед нами книга Ксении. Она представляет собой сплав авторской исповеди и путевых заметок – от родной для Ксении Евпатории и Крыма и до «самых краёв земли» – мест её выступлений. И это – очень интересно читать. И тем, кто не знаком с её песчаным творчеством (прочитав книгу, он непременно захочет с ним познакомиться). И тем, кто видел её замечательные выступления, её замечательные «фильмы» (потому что увидев те сокровища души, которыми делится Ксения, захочется узнать и что-то о ней самой, и что она чувствует, когда выступает, и как всё это родилось).
Книга дарит тепло. Потому что она – очень позитивна и оптимистична. Как будто в ней, так же, как и в световом столе – главном «музыкальном» инструменте Ксении – живёт теплое, не палящее и мучающее зноем, а ласковое и уютное солнышко заката. И ещё – где бы Ксения не была, куда бы она не ездила – она везде ищет храмы, и если они есть – радуется им и тщательно их описывает, а если нет – печалится, но с надеждой, что они появятся. Главные герои её книги – не её творчество (книга написана очень «скромно», без «знания себе цены» и самолюбования), и не только храмы, но и люди. Замечательные люди, с которыми Ксении довелось встречаться по всему миру – от самых простых людей, до принцев, королей и королев. И во всех них Ксения видела и видит только хорошее…
Ксения Симонова. «Всюду Бог». Записки Странствующей художницы.
«Меня зовут Ксения Симонова, я обычный человек с необычной профессией. Я – рисую песком…»
Олег Куликов
Каждую главу книг своей серии "Популярный комментарий" один из ведущих библеистов современности Николас Томас Райт начинает с "житейской истории" - картинки из собственных воспоминаний, или любопытных рассказов других людей. Иногда эти отступления весьма показательны не только с точки зрения приложения к последующей герменевтике текста (где, кстати сказать сей высокоучёный муж умудряется просто и доступно донести до заинтересованного читателя последние достижения в понимании смысла текста), но и сами по себе. Например, нижеследующий отрывок является демонстрацией степени достоверности и виртуозности, переходящей в опыт, которой добились современные библеисты. Из него видно, что опытный библеист, сличая вариации одного и того же текста, учитывая разночтения и редакции, способен практически 100%-но восстановить картинку, скрытую туманом веков. Кстати, именно дотошность в исследовании текста Священного Писания (в первую очередь начавшаяся всё-таки у протестантов, ставших способными в эпоху просвещения абстрагироваться от экзегетических напластований) положила начало современным методикам структурных, стилеметрических, исторических исследований любых текстов.
""""""Покойный епископ Стивен Нил миссионерствовал в Индии, где ещё и учил детей. Как-то он заподозрил, что ученики списывают друг у друга домашние задания. Ребята, учившиеся неважно, списывали у тех, кто поприлежнее, а в конечном счете самостоятельно выполнили задание лишь двое. Нил стал сличать ответы. Выяснилось, что полностью правильных решений нет ни у кого, а в процессе списывания добавлялись еще и новые ошибки. Нил проследил цепочку, а придя на урок, нарисовал на доске схему: кто списал у кого. Ученики опешили и даже приняли его за колдуна. Откуда, мол, ему это знать, если он не был свидетелем! Но все оказалось правильным. Логическим путем Нил восстановил точную картину.
Сам Нил объяснял на этом примере, как возникали ошибки в новозаветной текстуальной традиции. Ошибки бывают даже в печатных изданиях, что уж говорить о рукописях. Переписывать текст от руки - занятие нудное и утомительное. Можно случайно пропустить или дважды написать слово или строчку. Иногда переписчики вносили и смысловые изменения: подправляли стиль или снимали богословски-острые моменты. Подчас появлялась мысль: «Как-то странно звучит. Здесь, видимо, ошибка. Надо переформулировать».
Олег Куликов
Энтони Флю (1923-2010) – британский философ, специалист в аналитической философии и философии религии. Атеист с 15 лет, в конце жизни неожиданно для коллег признал существование Высшего Разума. По его словам, причиной такого признания стали новейшие научные открытия, особенно в области молекулярной генетики. В своей последней книге он полемизирует с представителями «нового атеизма»: Чарльзом Докинзом, Дэниелом Деннетом, Сэмом Харрисом, Стивеном Пинкером и другими.
"""…Наука сама по себе не может предоставить аргумента в пользу существования Бога. Но есть три доказательства, которые мы рассмотрели в этой книге: законы природы, жизнь с её телеологической организацией и существование Вселенной – всё это можно объяснить только присутствием Разума, который объясняет как своё собственное существование, так и всё то, что есть в мире. Такое открытие Бога не происходит посредством экспериментов и уравнений, но через понимание той структуры, которую они раскрывают и описывают.
Всё это, пожалуй, может звучать абстрактно и безлико. Как, спрашивается, мне, как личности, реагировать на открытие высшей Реальности, которая является вездесущим и всезнающим Духом? Я снова должен сказать, что путь к моему открытию Бога был до этих самых пор паломничеством разума. Я следовал за доказательствами туда, куда они меня вели. А они вели меня к тому, чтобы признать существование независимо существующей, неизменной, нематериальной, всемогущей и всезнающей Сущности…
***
И как же возникли жизнь, сознание, мышление и самость? История Земли рисует перед нами картину их внезапного появления: жизнь возникла вскоре после остывания земной коры; сознание загадочным образом проявилось во время кембрийского взрыва; язык возник «в виде символов» без каких-либо эволюционных предпосылок. Указанные явления включают всё, начиная от кода, от систем обработки символов и от деятельных субъектов, стремящихся к цели и проявляющих свои намерения, и заканчивая субъективным восприятием, понятийным мышлением и человеческим «Я». Единственный способ описать эти явления – назвать их разными измерениями бытия, в той или иной мере супрафизическими (выходящими за рамки физического, находящиеся на другом, нефизическом, «зафизическом» уровне) . Они полностью едины с физическим миром, и всё же радикально «новые». Мы говорим не о призраках в машинах, но о субъектах иного рода, одни из которых обладают сознанием, а другие – сознанием и мышлением. В каждом случае нет места ни витализму, ни дуализму: присутствует полная интеграция, холизм, объединяющий и физическое, и духовное.
Хотя «новые атеисты» не смогли справиться с вопросами о природе и источнике жизни, сознания, мышления и самости, ответ на вопрос о происхождении супрафизического кажется очевидным: супрафизическое может произойти только из супрафизического источника. Жизнь, сознание, разум и самость могут родиться лишь из живого, сознательного и мыслящего Источника. Если мы – субъекты, обладающие сознанием и мышлением, способные знать, любить, планировать и воплощать в жизнь свои планы, я не могу представить, как такие субъекты могут произойти из чего-то, неспособного на это по своей природе. Да, простые физические процессы могут вести к сложным физическим явлениям, но мы не рассматриваем здесь отношение простого к сложному, мы говорим о происхождении «центров». Невозможно вообразить, чтобы какая-либо материальная матрица или поле смогли породить мыслящих и действующих субъектов. Материя неспособна создавать концепции и наделять способностью к восприятию. Силовое поле не строит планов и ни о чём не думает. И на уровне здравого смысла и повседневного опыта мы сразу же осознаём, что мир живых, мыслящих и обладающих сознанием существ должен брать своё начало в живом Источнике – Разуме.""""
Олег Куликов
Письма Игнатия, именуемого в традиции «епископом Антиохийским», но более известным, как Богоносец, по-гречески «Теофорос» считаются одним из древнейших памятников христианской письменности, возникшим практически сразу, после поздних книг Нового Завета. Именно анализу этих писем, их подлинности, их значению, а также тому новому, что они и их автор, замученный, по утверждениям широко-принятой традиции в Римском Колизее не позднее первого десятилетия II в., привнесли в практику, традицию и учение Древней Церкви и посвящено исследование Аллена Брента – на момент издания книги – профессора на богословском факультете Кембриджского университета в Англии.
Главный, и, казалось бы – парадоксальный, но очень правдоподобный, так как глубоко, на историческом материале аргументированный вывод автора, – привычная, «трёхстепенная» иерархия поместной церкви, экклесии, собрания верующих: «епископ, пресвитер, диакон» – впервые была оформлена и сформулирована именно в письмах Игнатия, назвавшего себя епископом Антиохийской церкви и «Богоносцем». Как считает и доказывает автор, преподобный профессор Аллен Брент, именно скандал и нестроения, вызванные Игнатием в христианской общине Антиохии, из-за, видимо, его попытки преобразовать харизматическое устройство церкви в иерархическое, и обратили на него внимание местной власти, привели к осуждению его на мученичество. И хотя Игнатий и не был римским гражданином, подобно апостолу Павлу (об этом говорит и образ его казни – растерзание дикими зверями на арене) – власть вынуждена была отправить его в Рим, так как приговор, приведённый в исполнение на месте, грозил недовольством народа. Так возникает ещё и тема так называемой «Второй софистики» – характерного для первого века эллинистического возрождения полисной гражданской демократии, находящейся в диалектическом отношении к «божественности» Римского Императора (демократия эллинского полиса – земная, практичная, признаёт санкционированное божественностью верховенство принцепса, и даже не просто признаёт – провозглашает).
Для этой книги как раз и характерно то, что она не абстрагируется от исторических и политических реалий, в антураже которых пишутся послания (а пишутся они Игнатием в процессе его конвоирования в Рим на Западе Малой Азии – доступ к нему оставался свободным, его посещали, общались с ним, слушали его и служили «божественными гонцами» («теодромами») посланцы христианских общин – адресатов его посланий, некоторых из которых он тут же называл «епископами»), а широко привлекает бытовавшие тогда представления – мировоззренческие, общественные, языческие – к объяснению мотивов и аналогий Игнатия – человека своего времени, со стереотипами и политическими представлениями рубежа I-II века, незнакомыми неподготовленному современному читателю его писем.
Из этого вырисовывается гармоничная картина. Конвоирование Игнатия превращается в аналог мистериального шествия – демонстрацию его епископства и декларацию в действии епископства вообще и его правоты – в частности. Игнатий исполняет роль, как в языческой процессии, характерной для времени «второй софистики» – носителя «типоса» – Образа Божия – настоящим епископом-богоносцем (процессии часто возглавлял сам император – живой бог, или любой жрец с изображением бога, для Игнатия же «типосом» становится его шествие на страдание, жертву подражающее Христовой). Вместе с тем утверждая и свою идею – идею, изложенную в его письмах: епископа, председательствующего как образ Бога, пресвитеров, как образа собора апостолов и диаконов, которым вверено служение Иисуса Христа (см. письмо к Магнезийцам, 6: 1). Игнатий, идущий на смерть, самой своей жертвой за паству, которую он сравнивает с ветхозаветными жертвами (а себя с «козлом отпущения»), демонстрирует своё епископство. Уже в процессе его шествия, возможно, и, вследствие его ареста и осуждения – в антиохийской церкви воцаряется мир, а затем иерархичная схема экклесии приобретает постепенно повсеместное значение. Хотя учение о епископе, как преемнике апостолов возникает уже позже – фиксируется впервые у Иринея Лионского. Письма Игнатия становятся признанным авторитетным источником, универсальным для христианства (сомнения в их подлинности высказывают во время Реформации противники епископального устройства церкви, с чего начинает свою книгу автор), возникают даже апокрифы-псевдоэпиграфы, приписываемые Игнатию. Защитой подлинности «средней редакции» писем Игнатия, полемике с исследователями, придерживающимися других мнений на подлинность писем, посвящена достаточно большая часть исследования Аллена Брента. Эти полемические страницы также дают щирокий обзор эпохи и мотивов деятельности Игнатия и его современников.
Олег Куликов
Из главы «Амвросий, епископ Пензенский»
В 1824 г. в Пензе провел четыре дня император Александр I. К его прибытию город наполнился приезжими лицами, которых губернатор восстановлял против архиерея, надеясь, что слухи о строптивости его дойдут до государя.
В день приезда государя, для встречи власти собрались на одном крыльце собора, а Амвросий направился к другим боковым дверям, которые находил более величественными, и, ответив на просьбы властей — перейти к другим дверям, что распоряжения в соборе принадлежат ему как архиерею, — остался у них один без властей и встретил государя краткою и сильною речью. Ведя его по собору, он останавливался у икон, коротко назначал, сколько государь должен положить поклонов. Может быть, он надеялся навлечь на себя неудовольствие государя, чтобы быть уволенным от управления епархиею, которое его очень тяготило. Но он, несмотря ни на что, произвел на государя впечатление человека хотя сурового, но справедливого.
Государь не один раз был у него и подолгу с ним беседовал. Между прочим, он советовал государю отказаться от бала, предложенного дворянством, так как он не одобрял этих увеселений. Государь говорил ему об его строгости к духовенству и сказал, что во время проезда его чрез Пензенскую губернию, ему подано на него множество жалоб.
— Государь, — ответил ему епископ, — на тебя подали бы еще больше жалоб, если бы было кому жаловаться.
Потом, указав на свою панагию с изображением на ней распятого Христа, он промолвил: «Он ли не был свят, а и Его обвинили и распяли».
Из главы «Священник Иоанн города Ельца»
…Не терпел о. Иоанн лжи.
Живописец, расписывавший его приходскую церковь, нуждаясь в деньгах, пришел просить их вперед за работу. Прежде чем тот заговорил, о. Иоанн спрашивает его, читал ли он Новый Завет, и говорит, подавая ему евангелие: «Вот возьми, еще почитай и, что найдешь в книге для себя полезного, о том скажи мне. Бери же и иди домой».
Так и пошел живописец, не объяснив своей нужды, и дома положил книгу на полку и не раскрывал ее. Чрез две недели приходит к нему о. Иоанн и спрашивает:
— Что, Алексей, прочел книгу?
— Прочел.
— Где ж она? Подай ее сюда.
И, получив книгу, о. Иоанн развернул ее прямо в том самом месте, где написаны слова: «Просите, и дастся вам». А на этом самом месте, вручая книгу живописцу, о. Иоанн тайно положил для него двадцать пять рублей.
Упал живописец в ноги о. Иоанну и сознался во лжи.
— Бог простит тебя, — отвечал о. Иоанн, отдавая ему деньги, и объяснил ему низость лжи.
После этого живописец и сам не лгал и других предостерегал от этого порока.
Боролся о. Иоанн и с суевериями.
Один купец, выезжая на ярмарку, у самого своего двора встретил о. Иоанна. Купец приказал вернуться, считая это за неблагоприятное предзнаменование. Переждав немного, собрался он ехать опять, и снова навстречу о. Иоанн, и так до трех раз. В третий раз подозвал купца к себе о. Иоанн и говорит: «Что это у вас за предрассудок, что встреча священника признак неудачи… Брось ты это. Прими от меня благословение и вернись домой. Я там отслужу для тебя напутственный молебен, и ты отправишься в путь с благими надеждами».
После молебна купец поехал и отлично торговал на ярмарке. И больше уж не боялся встречи со священником.
Из главы «Восстановитель Реконской пустыни схимонах Амфилохий»
…В это время о. Амфилохий призвал к себе чрез богомольцев-мужиков священника, подвизавшегося в то время в одной из соседних областей, в селе, и очень чтимого народом. Ему поручил старец идти к митрополиту, объяснить его положение и хлопотать о дозволении устроить на месте землянки церковь, для образования при ней скита. Хотя священник не был еще близко известен митрополиту, но, по настоянию старца, взялся за это дело. После многих препятствий, он был допущен к митрополиту.
— Какого мнения ты об о. Амфилохии? — спросил митрополит.
— Святой старец.
— А чем?
— Он подвижник, живет в землянке.
— Разве не знаешь ты, что и находившиеся в прелести подвергали себя истязаниям?
— Он прозорлив.
— А не есть ли и это прелесть?
— Позвольте, владыко, вам сказать: если б он был точно в прелести, то с радостью согласился бы жить в монастыре, где его будут прославлять и кадить ему; а он ведет тяжкую жизнь в землянке, и много за то терпит.
— К нему, мне донесено, водку носят ведрами.
— Позвольте, владыко, вам сказать: это вы слышали или от благочинного, или от настоятеля?
— Да, от них.
— Тысячи народа к нему ходят, и никто ничего подобного не видал. Пошлите, владыко, на самое место верных людей. Тогда вы узнаете всю правду.
Когда три лица, имевшие тайное поручение от митрополита расследовать отзывы об о. Амфилохии, поехали в пустынь, старец ждал их. Встретя их, он позвал их: «Пойдемте, пойдемте ко мне» — и прямо объявил: «Скажите митрополиту, чтоб он разрешил постройку скита. Ну, да он разрешит; скажет: «Надо его послушать, а то Бог накажет за старика».
Когда посланные вернулись к митрополиту и объявили ему просьбу старца, он сказал: «Ну делать нечего, надо его послушать, а то Бог накажет за старика».
— Владыко, этими словами он предсказал ваше разрешение.
Не получая еще формального разрешения, о. Амфилохий начал строить церковь, и митрополит поспешил оформить дело.
С тех пор митрополит Исидор относился к о. Амфилохию с неизменным уважением; такое же уважение выказывал ему и митрополит Московский Филарет, который прислал ему в благословение икону.
Олег Куликов
«Одинокая птица на зелёной ветке» – сборник художественных произведений нижегородского протоиерея Владимира Гофмана. Не особо оригинальные по сюжету, не очень равнозначные по качеству и глубине, они представляют собой, казалось бы, образцы жанра «священническая проза». Главное достоинство книги – о. Владимир всё-таки в большей части своих рассказов – искренен. Автор старается из всех сил пробудить добрые чувства любви, сострадания, терпимого отношения к ближним через героев и художественные образы, чаще всего не впадая в менторство, излишнюю сентиментальность, и морализаторство, хотя некоторые из попавших в сборник вещиц не лишены нарочитости и искусственности именно этого плана. Тут нужно отметить, что Владимир Николаевич начал публиковаться ещё не будучи священником – в далёком застойном 1983 году. Это говорит о том, что проза его имеет издательскую и читательскую ценность и вне его сана. И – с субъективной точки зрения автора этой рецензии, Гофмана спасает именно то, что он иногда забывает, что он священник-писатель. Когда он выступает просто в роли писателя, то есть человека, умеющего через художественное слово искренне и душевно делиться своим, именно своим, а не продиктованным обязанностями сана и приличия, сокровенным – получается значительно лучше. Впрочем, если кто-то и не согласится с таким подходом, тогда ему тем более должна понравиться эта книга…
«Помню страшный такой рассказ о том, как голову Иоанна Крестителя на блюде царю принесли. Много и о чудесах разных. Сидишь, бывало, в уголке и слушаешь, слушаешь, а по спине — холодок, мурашки между лопаток так и бегают.
— Ну вот, пришла ей, значитца, на второго сына похоронка, — притаенно говорит тетка Прасковья, постоянная «наслещица» из далекой залесной деревни.
У нее большая, что твоя горошина, родинка на носу. Из-за этой родинки сухое лицо тетки Прасковьи, с впалыми щеками и острым, выдающимся вперед подбородком, кажется очень добрым. Она, и впрямь, добрая. Всегда мне то пряник, то просвирку принесет. Вот продолжает она:
— Поплакала над похоронкой-то да и возроптала: «Как же, мол, так: и мужа убили, и сынков обоих! Куда ж Ты, Господь, глядел?! Я ли не молилась, я ли свечи не ставила?»... Тут нехорошо с нею сделалось — в сердцах к божнице кинулась, схватила икону, Николу, значитца, Чудотворца Мирликийского, да об пол. Только хрупнуло. Икона, конечно, пополам.
— Ох, батюшки! — восклицает кто-то из старушек. - Николу? Да неужто?
— Я тебе говорю, его, Угодника, — строго отвечает тетка Прасковья.
— Прости, Господи, грехи наши! — со вздохом восклицает густой голос из «красного» угла. Это Антиповна, тоже гостья частая.
— Дальше слушайте, — продолжает рассказчица. — Заревела она, сердешная, икону-то сложила и спать легла. А утром встала — что ты думаешь — икона на божнице цела-целехонька. Трещинки даже нету.
— Вот чудо-то! — шепчет рядом со мной старушка, такая горбатая, что даже сидеть, не опираясь на палку, не может.
А тетка Прасковья заканчивает рассказ:
— И ведь что, вернулся ее сынок-то. В плену был у немцев. Да... Только сама она с той поры маленько не в себе стала. Ходит по деревне и все шепчет, шепчет. А то молиться начнет прямо средь улицы...»
Олег Куликов
Совсем недавно, общаясь с представителем философской академический среды, автор этих строк неожиданно узнал, что в некоторых кругах этой самой среды последнее время становится модным и возрождается гностицизм. Не просто интерес к гностицизму, а, практически, – его религиозное исповедание. Казавшиеся такими искусственными, вычурными, нарочито-сложными мировоззренческие системы гностиков – представителей одного из ранних течений христианства, увязаннаго как с неоплатонизмом, так и с позднеязыческими мистериальными культами – вдруг стали привлекать некоторых из тех, кого можно назвать «официальными интеллектуалами» в области философии, религиоведения, культурологии и ориенталистики. (Впрочем, интерес к гностицизму проявлял ещё В.С. Соловьёв – первый русский мыслитель, создавший оригинальную философскую систему). К сожалению, разговор был не очень длинным, и не дошёл до вопросов реконструкции культа – инициаций, обрядов и мистерий и их современного практикования… Возможно, подогретая этим интересом – современная известная публицистка, не лишённая скандальной славы, – Юлия Латынина – издала книгу (которая не продаётся в нашем магазине) – одной из «изюминок» которой является рассмотрение гностицизма как мейнстрима христианства, или равнозначного в первые века нашей эры с христианской ортодоксией его направления.
Всё это делает предлагаемую вашему вниманию книгу – интересной и актуальной. Это – один из ярких христанских апокрифов (большинство из которых как раз представляет из себя именно гностическую литературу), который ранее бытовал в научной литературе под его греческим названием «Пистис София», теперь его название переводится – «Вера Премудрость».
Рукопись этого текста представляет собой пергаменный кодекс, получивший название Кодекс Аскевианус (Codex Askewianus) по имени его владельца, лондонского доктора Э. Эскью, который купил его у книгопродавца в 1772 г. После смерти владельца кодекс поступил в Британский музей. Над ним работал ряд ученых, но первое издание коптского текста (типографский набор), с латинским переводом, подготовленное М. Г. Шварцем, вышло в 1848 г. Затем выходили переводы на английский и французский языки, а в 1905 г. Карл Шмидт опубликовал перевод на немецкий язык. Сам Шмидт датировал рукопись второй половиной IV в., а лежащий в основе коптского перевода греческий оригинал – III в. Мнения ученых о датировке кодекса значительно расходятся. Иногда его относят и к концу II в.
Сочинение представляет собой по форме беседу Иисуса Христа с учениками, но, в отличие от других бесед Иисуса, это своеобразный семинар, на котором от учеников требуется давать толкование словам, произнесенным Иисусом. Кроме того, он обучает их Обряду Таинств, который они потом должны будут совершать над уверовавшими.
Олег Куликов
Мелитон, епископ города Сарды (города в Малой Азии, столицы древней Лидии, последним царём которой был легендарный Крёз), умерший
ок. 170 г. – один из раннехристианских авторов, произведения которого в своё время считались образцовыми. Однако, они практически все были утрачены и сохранились, как считалось, лишь во фрагментах.
Уникальность поэмы «О Пасхе» не только в том, что мы имеем её полный текст, но и в том, что она, в отличие от большого массива христианской литературы, ныне нам известного, надолго выпадала из церковного обихода. Полный текст её был открыт лишь в 1940 году. И лишь в 1993 г. она была переведена тогда иеромонахом Иларионом (Алфеевым) на русский язык.
Древность текста делает его равнозначным для христиан всех конфессий, а красота и глубина даёт представление о богослужении ранней церкви, которая тогда ещё не была ни полностью легальной, ни тем более, «господствующим вероисповеданием».
«…Он воскрес из мёртвых
и взошёл превыше небес.
Господь, облекшийся в человека,
и пострадавший ради страждущего,
и связанный ради держимого,
и осуждённый ради приговорённого к смерти,
и погребённый ради похороненного,
Воскрес из мёртвых,
и воззвал таким голосом:
«Кто спорящий со Мною?
Противостань Мне.
Я осуждённого развязал.
Я мёртвого оживотворил.
Я погребённого воскресил.
Кто противоречащий Мне?
Я, – говорит Христос, –
Я разрушивший смерть
и победивший врага,
и поправший ад,
и связавший сильного,
и восхитивший человека
на высоты небес.
Я, – говорит, – Христос.
Итак, приидите все семьи людей,
запятнанные грехами,
и получите отпущение грехов.
Я есмь ваше отпущение,
Я – Пасха спасения,
Я – Агнец, закланный за вас,
Я – искупление ваше,
Я – жизнь ваша,
Я – воскресение ваше,
Я – свет ваш,
Я – спасение ваше,
Я – Царь ваш.
Я вас возведу на небесные высоты.
Я вам покажу превечного Отца.
Я вас восставлю Моею десницей».
Сей есть сотворивший небо и землю
и создавший в начале человека,
через закон и пророки проповедавший,
в Деве воплотившийся,
на древе повешенный,
в земле погребённый,
из мертвых воскрешённый
и восшедший на высоты небесные,
сидящий одесную Отца,
имеющий власть всех судить и спасать,
через Которого Отец всё сотворил от начала навеки.
Сей есть Альфа и Омега.
Сей есть начало и конец –
начало неизъяснимое и конец непостижимый.
Сей есть Христос.
Сей есть Царь,
Сей есть Иисус,
Сей – Полководец,
Сей – Господь,
Сей – воскресший из мёртвых,
Сей сидящий одесную Отца.
Он носит Отца и носим Отцом.
Ему слава и держава во веки.
Аминь.»
Олег Куликов
Книга состоит из кратких проповедей на избранные библейские стихи по две на каждый день года (т.е., для чтения утром и вечером). Каждая проповедь занимает одну страницу.
Чарльз Хаддон Сперджен (1834–1892) – выдающийся английский проповедник викторианской эпохи, виртуоз гомилетической экзегезы, родился в графстве Эссекс. Происходя из англиканской конгрегациональной семьи (отец и дед его были пасторами), в 1850 году он принял баптистское крещение. В 1854 году, в возрасте 19 лет, Сперджен был приглашен занять должность пастора самой большой и известной лондонской баптистской церкви на Нью-Парк Стрит в Саусварке. 7 октября 1857 года проповедь Сперджена в Хрустальном Дворце в Лондоне собрала наибольшее число слушателей для того времени — 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году было построено новое здание церкви под названием Метрополитен Табернакл (Скиния Метрополии) – самое большое церковное здание того времени, вмещавшее до 6000 чел., приходивших слушать проповедовавшего Сперджена. Проповеди Сперджена, приобретя громадную известность и популярность, стенографировались, правились им и издавались еженедельно, оставшись в истории до сих пор одним из самых продаваемых серийных изданий, стоивших копейки.
К моменту смерти в 1892 за Спердженом было записано и издано около 3600 проповедей, он опубликовал 49 томов комментариев на Библию и ряд других изданий – сборники молитв, гимнов, высказываний, анекдотов – всего его наследие составляет не менее 200 томов. Кроме того, в 1857 году в Лондоне Сперджен организовал пасторский колледж, которому уже после его смерти в 1923 году, было присвоено имя основателя.
В 1867 году Сперджен основал в Лондоне детский приют Стоквелл. Работа приюта продолжалась до 1940 года, когда его во время Второй мировой войны разбомбила немецкая авиация. После войны приют был восстановлен, переименован в Приют Сперджена и действует до сего дня. Сперджен оказывал финансовую поддержку работе межконфессиональной Китайской внутренней миссии, принимал участие в важнейших богословских полемиках своего времени. Труды Сперджена переведены почти на 40 языков и являются одними из самых читаемых текстов в жанре проповеди у представителей различных христианских, прежде всего протестантских, деноминаций.
Олег Куликов
Программа «Статус», Эхо Москвы, 21 апреля 2020 г.:
«…Е. Шульман― Отец наш сегодня любопытный персонаж, сочетающий в себе практика и теоретика. Но, пожалуй, с преобладающей теоретической составляющей. По крайней мере, теоретической составляющей более публичной и более известной. Это человек жив и сейчас, появляется время от времени в прессе. Ему 77 лет, по нынешним временам не такой уж древний возраст. Зовут его Эдвард Люттвак. Это американский ученый. Специалист по международным отношениям. И специалист по военной стратегии. Он первоначально историк. Кроме того, он довольно много лет проработал в министерстве обороны США. А также был советником президента Рейгана. Это один из тех американских академических деятелей, которые довольно легко переходят в практическую политику, глядишь, человек там руководил какими-то операциями Пентагона в разных близлежащих странах. А одновременно переводил «Политику» Аристотеля на английский язык. Люттвак автор довольно фундаментального труда, к которому отсылаются многие последующие сочинения, посвященного военной стратегии Древнего Рима. Это у него большая книга, потом он написал вторую по стратегии византийской империи. Почему-то та, которая про Византию, переведена на русский язык, а та, которая про Рим, которая была раньше и известна больше, она на русский язык, насколько я могла увидеть, не переводилась. Что может быть даже и нехорошо. Кроме того, он известен, наиболее его популярная книга называется «Государственный переворот. Практическое пособие».
Олег Куликов